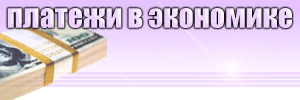
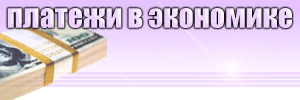 |
| Заглавная страница / Социология Домик черепахи  — Борис, а что, собственно, вас связывает с украинским театральным процессом? Были какие-то «опасные связи»? — Борис, а что, собственно, вас связывает с украинским театральным процессом? Были какие-то «опасные связи»?О том, что он «вытворяет» в театре и кино, говорят разное. И оценивают его творчество порою контрастными оценками — от искреннего восхищения до саркастичного ниспровержения. Но тем должно быть и интересен Борис Юхананов… Режиссер, который в кинематографе прославился и как один из отцов так называемого параллельного кино, и как «киногинеколог». В театральном искусстве его имя тесно связано со знаменитой Школой драматического искусства Анатолия Васильева, а также разными, часто довольно неожиданными авторскими проектами. Так, около десяти лет продолжался его «Сад», в котором были задействованы непрофессиональные актеры с синдромом Дауна. Сегодня у Юхананова новые заботы — проект «ЛабораТОРИЯ» с декларациями создания еврейского театра на основе Торы. В интервью «ЗН» Юхананов рассказал, как Лужков «ограбил» его учителя Анатолия Васильева, как его угораздило «вляпаться» в Comedy Club, как следует воспринимать его собственные театральные эксперименты. Позже начали с ДАХом большой проект — к сожалению, сейчас он прерван — под названием «Кристалл». Он состоял из четырех граней: «Этюд о любви», «Фауст», Стойкий принц» и «Книга Иова». Взаимодействие с ДАХом длилось довольно долго. Мы вместе сочинили фестиваль «Школа», куда я привозил свой «Сад». Потом и даховцы приезжали в Москву на продолжение этого фестиваля, который у нас носил название «По направлению к школе» (в память о Прусте и, разумеется, в честь Школы драматического искусства). Наконец, пару лет назад я привозил в Киев свой трагический спектакль «Крик» по Т.Уильямсу с Лилей Ахеджаковой и, увы, ушедшим от нас потрясающим актером Виктором Гвоздицким. — Вы знаете, мой первый приезд в Киев оказался довольно смешным. Я появился в 1980-х на волне московского авангарда. Того, что принято называть «бешенством младокультурной матки». На этом «бешенстве», по путям перестроечного виндсерфинга, мы, помню, прилетели с какой-то совершенно безумной акцией, с кучей замечательного народа (помню группу «Обер-Манекены», драматурга Шипенко, поэтессу Щербину и разных других). Я делал перформанс в Доме актера. Это было абсолютно беззастенчивое витийство, демонстрирующее новую, высвободившуюся из-под гнета — из-под всех имперских гнетов — энергию. — Лично я знаю Дмитрия Богомазова. По-моему, это талантливый человек. Знаю Влада Троицкого. Знаю Клима, который в свое время работал в Москве. Его считаю гениально озаренным человеком. И печалюсь, что здесь, в Украине, не находится возможности, чтобы он ставил активнее свои спектакли. Никто у вас в Украине не ценит таких вот реальных, «священных» мастеров. Как не знать Жолдака и Виктюка, которые работают в Москве. Но у них — другая ипостась... Вот, пожалуй, и все! — А кто из украинских режиссеров сегодня мог быть «конвертируем»? — Я не руковожу театром. — Раз так печалитесь за того же Клима и прочих «украинцев»-режиссеров, может, пригласили бы их ставить в Москве? — Васильев ушел как художественный диссидент — оскорбленный и ограбленный московским правительством! Его, просто как пионера, рассекли надвое и попытались высечь. Но это — не та величина и не тот тип мастера, который смирится. Он уехал из России — и больше в этой стране ставить не будет. Это огромная потеря для отечественного театра. Но нам он поручил работать дальше... Воплощая его поручение, я остался в Школе драматического искусства вместе с другими режиссерами, вышедшими из этой альма-матер — Игорем Яцко, Володей Бергером, Сашей Огаревым, Димой Крымовым. Крымов, кстати, не только сын Эфроса, но неожиданно открылся как прекрасный режиссер, прививающий лозу визуального европейского театра московской сцене. Вместе мы образовали режиссерский совет и ведем тяжкую организационную и художественную работу в театре. Появляются и довольно интересные результаты... — Кстати, не могли бы вы рассказать подробнее: что сейчас, после ухода Анатолия Васильева, происходит с его культовым театром — Школой драматического искусства? — Это однозначно. Театр похож на домик черепахи! Если черепаха убежала из своего панциря, туда уже никто не прибежит, понимаете? Остается только направление. Но оно наполняется другими индивидуальностями. Так бывает всегда — и так происходит в театре Школа драматического искусства. — В одном из интервью Васильев говорил, что «после него» Школа драматического искусства станет «новым» театром… — Конечно. — Но «направление» все же остается? — Некоторые режиссеры приходят в театр с «новым переживанием свободы». Вот так кратко я и ответил бы на этот вопрос. Судя по «Золотой маске», в российском театре происходит особого рода разворот. Театр избегает монументальных задач, которые прежде были на него возложены историей и ситуацией. И уходит в некую авторскую свободу. Сегодня интересное происходит на малых площадях. Именно там появляются режиссерские индивидуальности — причем в разных городах. На мой взгляд, это перспективно. — Как вы в целом оцениваете нынешнюю театральную ситуацию в России? — Васильев — в другом измерении. Он создал школу. Он создавал храм, особую архитектонику. И потратил на это много таланта, педагогического самоотречения и продюсерской адекватности. Иными словами, говоря о Васильеве, мы по сути говорим об особой парадигме современного театра. Анализируя же «ситуацию в театре», я указал на авторские проявления молодых режиссеров. Впрочем, опытные режиссеры, такие как, к примеру, Фокин, сейчас тоже переживают «вторую молодость». Новые надежды, возможность потратить свою энергию на новые риски. В Москве созревает новый тип «подполья», которое можно назвать «метафизическим андеграундом». Любая попытка проложить «вертикаль» на сцене пока еще оборачивается невниманием к этому со стороны публики и культуртрегерского сообщества. — Как же это согласуется с ситуацией с Васильевым? — Можно по-разному это формулировать. Театр может касаться не только социокультурной территории, которая располагается по «горизонтали», но и взаимодействовать с Абсолютом. Тогда он инсталлирует особого рода крест, идет вертикальный посыл — чувства, идеи, энергии человека встречаются с горизонтальными свойствами наших эмоций, страстей как личных, так и социальных. — Проложить «вертикаль» — это… — Мы говорим, что есть «театр Васильева». Можно ли сказать, что существует «театр Юхананова»? Возможно, в сочетании «горизонтали» с «вертикалью» и может созреть новый «универсум», который, в частности, интересует лично меня. В чем суть? Об этом надо говорить строго и многообразно. — Без своих учителей — Эфроса и Васильева — я не появился бы на свет. Я постоянно обращаюсь к их личностям. Но реальность моей театральной судьбы и моих интересов, естественно, далеко увели меня от тех просторов, где располагается театральная просодия Анатолия Александровича и Анатолия Васильевича. Речь о совершенно ином мышлении в театре, которое я и называю «новомистериальным», или «новоуниверсальным» театром. Но я и не расстаюсь с рисунком. Рисунок Эфроса посвящен чувствам человека, он — гений «мелодического» театра, потому что поразительно разворачивал диалог и в диалоге кропотливо и точно создавал эмоциональную «проволоку». Такого уровня мелодиста я в театре, пожалуй, и не знаю. В первую очередь я не работаю с тем, что в разговоре об Эфросе принято называть «мелодическим театром». То есть я не выстраиваю природу существования актера на сцене при помощи рисунка. Мистериальный рисунок — особого рода канва игры, тоже подробно выстроенная в своих ходах, которая проецирует на игру пространство нового мифа, который я создаю одновременно с разбором. Я же, в отличие от Эфроса, создаю мистериальный рисунок. То есть, пользуясь той же техникой, увожу ее на другую территорию. Васильев развивается стремительно. Он работал с психологическими структурами, с игровым театром. Он продолжает исследовать отношения с игровыми структурами. В своем исследовании он добрался (хотя это слово несколько беспардонно, и я позволю его себе как рабочий термин) до высоких отношений с архаическим слоем культуры — античностью, средневековыми техниками. В частности, с техниками дыхания. С тем принципом отношений с текстом, который должен был развит, к примеру, в средневековом пении. Можно сказать, что путь Васильева ведет назад... Но именно поэтому он и оказывается впереди иных в европейской театральной культуре. В этом смысле стратегия моего разбора текста всегда — стратегия сакрализации. — «Биографический миф» вам точно удалось создать. Я действую иначе. Я не иду «назад». Я оказываюсь в пространстве нового мифа, который открывается нам в естественном разворачивании жизни. Этим объяснением и ограничусь: дальше ушли бы очень далеко... И не только режиссера — вообще художника. В 1980-е я, например, был Черным Лисом. Во времена «Сада» стал Гуманоидом Иваном. В какие-то моменты был Сумасшедшим Принцем, затем стал Стойким Принцем. Если меня спросите, кто я сейчас — не скажу: пока тайна. — У меня и намерения такого не было! Конечно, снабжаю каждую свою работу жизнетворческим имиджем, скажем так. Но на самом деле это отдельная большая работа, связанная с «созданием режиссера» и с пониманием режиссера как персонажа. — Нет, гневливый. Это свойственно древним евреям. Так что в гневливости проявляется древняя ипостась моего сознания. Но я и отходчивый. — Вы обидчивый человек? — Чудеса в решете! Я вообще не эпатажен! Я невероятно ортодоксальный, осторожный, адекватный человек. У меня нет потребности задевать нервы окружающих! Но... Моя душа не переносит неадекватности. Неадекватность —начальный уровень отношений с миром. Но если сегодня этот начальный уровень переживать как эпатаж, можно только сопереживать жителям этого самого «сегодня». — Мне интересно: насколько вы эпатажны — как человек, как театральный режиссер? И, простите, спрошу прямо: насколько еврейская тема сегодня для театральной России эпатаж? — Да нет, это несчастные сироты, обиженные с детства! В основном это мальчики, которые лишены отцовства. Это подростковая нежность, не находящая для себя других возможностей и медленно и неотвратимо становящаяся агрессией. Какие неонацисты? Это просто — беспризорники! — Знаете, в контексте этого «сегодня», где по улицам разгуливают неонацисты… — Вы переходите на магическую территорию. Я не хотел бы об этом говорить, простите. — Проблем с беспризорниками у вашей «ЛабораТОРИИ» не было? — Конечно, имею отношение к этому фильму. Одна из моих ипостасей — «киногинеколог». Я — доктор. Я лечу фильмы. Причем как специалист широкого профиля: я лечу монтаж, лечу — игру, кастинг, все элементы кинопроизводства. Когда к доктору приходит больной, тот не спрашивает: это — мейнстрим и Comedy Club или «авторское кино»? Врач просто делает все, чтобы пациент по мере возможностей его организма выздоровел. Так я и поступил с массой фильмов. — Получается, вы — не эпатажный режиссер и человек. Но в этом году на экраны вышел скандальный кинопроект «Самый лучший фильм»... и вы участвовали в его создании... И если так, то — зачем «независимому» кинорежиссеру и режиссеру «экспериментального» театра было принимать участие в этом сугубо коммерческом, масскультурном проекте? — Лечил монтаж... Насколько его вообще можно было вылечить. И формировал композиционную стратегию рассказа. Естественно, имел дело с готовым материалом. А вообще считаю, что «Самое лучшее кино» — это очень интересно. Ведь нам предлагают новый формат игры — выращенной в КВН. Звезды Comedy Club шокируют современного потребителя, но на самом деле это очень талантливые ребята. Особенно Гарик Харламов — у него же природный американский стиль игры! Конечно, снобы вряд ли заинтересуются этой картиной. Но я работал не для снобов. Я делал коммерческий проект… — Какое же конкретное отношение вы имели к фильму «Самое лучшее кино»? — Кому известно? — Все же я попробую добиться от вас ответа на вопрос о формальных приемах в современном театре... Вот известно, что стили в искусстве сменяются по своеобразной параболе… — А разве академической науке хоть что-то известно? — Академической науке. Конкретно — Чижевский об этом писал. — Как, классицизм — застывшая форма? Да это самая напряженная форма, которая только была в европейской культуре! Классицизм — это последнее напряжение в духовной средневековой культуре, вот что я вам скажу! В последнем своем выплеске оно породило устойчивые формы. Но в целом только кажется неподвижным, это, так сказать, «застывший эквилибр». Все мерцает в классицизме. — Да так, по мелочи. Но вернусь к вопросу. Известно, что на смену «кодифицированным», с жестким сводом обязательных к исполнению правил и «застывшей» формой стилям (например, это классицизм)… — Что такое нарративность в театре? — Я о другом. Впрочем, если вы не в настроении отвечать — задам другой, более общий вопрос. Отрицающий любые правила постмодерн сегодня агонизирует? Вы как практик театра, как думаете, приходится ли ждать вскоре возврата к нарративности, в том числе в театре? — Мы сейчас живем в «Атлантиде-2». Имперская цивилизация не то, чтобы утонула — она скорее подчинилась лаве перестройки и всех последующих событий. Сегодня можно видеть, как сходит пепел. Мы наблюдаем эпоху зарождения. Естественно, вначале люди проходят близкие круги — земное постижение воздушных маршрутов духа. Первый круг — это чувства, они не могут раскрыться без порождающих их ситуаций. Расчет на психологическую игру действительно вернулся в культуру. К сожалению, как уже многократно повторялось в театре, он очень скоро обнаружит свои границы. И толпа молодежи рванет дальше-дальше-дальше... — Следует ли, с вашей точки зрения, ожидать, что в моду вновь войдет психологический, традиционный театр? Заглавная страница / Социология |