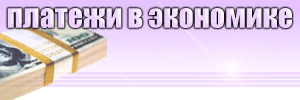
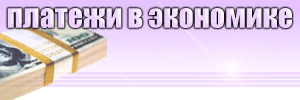 |
| Заглавная страница / Социология Размышления о российской идеократии  Возникшее на обломках Золотой Орды Московское царство было заворожено идеей государства правды, верой в то, что Москва это и есть непреходящий Третий Рим, олицетворяющий православный идеал на земле. Возникшее на обломках Золотой Орды Московское царство было заворожено идеей государства правды, верой в то, что Москва это и есть непреходящий Третий Рим, олицетворяющий православный идеал на земле.17 лет назад рухнул Советский Союз. Исчезло государство, попытавшееся воплотить в жизнь созданную «Коммунистическим манифестом» утопию. Но сам факт, что Россия была первой страной, в которой начертанный Марксом и Энгельсом утопический проект стал идейной основой, легитимирующей всю государственность, весьма примечателен. Он показывает, что идеи в России принимают всерьез. Характерная для Запада «игра в идеи» России почти неведома. Потому и политические системы, которые здесь возникали, были, как правило, идеократиями. Радикальные критики царя, славянофилы и евразийцы, считали, что Петр I своей реформой уничтожил тот фундамент, на котором покоилась мощь России. «Ни одному из иностранных завоевателей еще не удавалось до такой степени разрушить национальную культуру и формировавшийся веками национальный уклад», считал один из основоположников евразийства, князь Николай Трубецкой. Богослов Георгий Флоровский, когда он еще принадлежал к евразийскому движению, писал в 1922 году, что Петр I перенял европейские начала, оставшиеся непонятными народу, поэтому русская революция — это суд над послепетровской Россией. Петр I, в свою очередь, повернул взор русского человека с неба на землю, сверг богоизбранный Третий Рим с пьедестала и заразил высший слой страны идеей европеизма. Основная драма будущей России была предопределена. Византийско-монгольское наследие и петровский замысел обречены были на противоборство и на сосуществование. Превратить Россию в нормальную европейскую страну не удалось ни Петру I, ни его преемникам. Но и путь к допетровской старине был окончательно закрыт. Вейдле, как и евразийцы, осознает хрупкость фундамента, на котором была воздвигнута петербургская Россия. Но он не видит альтернативы петровской программе. Отход от Европы для России невозможен, потому что в результате своей христианизации она стала неотъемлемой частью европейской культуры. Евразийцами не берется во внимание, что идеализируемая ими Московская Русь постепенно начала задыхаться от своей автаркии и собственного самодовольства и что по крайней мере со времени террора Ивана Грозного начался беспрецедентный кризис российской идентичности. Чтобы преодолеть становящуюся все более глубокой культурную стагнацию, Россия срочно нуждалась в культурных побуждениях извне. И откуда они могли прийти, если не с Запада? Не случайно, говорит Владимир Вейдле, что Петр Первый открыл окно не в сторону Мекки, не на Лхасу, но в Европу. Правда, согласно Вейдле, петровский замысел имел исключительно технократическую природу. Петр отождествлял культуру с технократической цивилизацией. Тем не менее он интуитивно выбрал — через восстановление культурного единства европейского мира — самый плодотворный для России путь развития. Беспримерные достижения петербургской России были следствием петровского переворота, продолжает Вейдле свои рассуждения, но Петр I также косвенно виновен и в катастрофе, которая разрушила его построение. Однако, в отличие от петровской, большевистская революция привела не к преодолению раскола между Западом и Востоком, а наоборот. Новый режим беспощадно боролся при помощи красного, а потом сталинского террора, против русского европеизма, изгнал сотни тысяч его приверженцев за пределы страны и закрыл открытое царем окно в Европу. Результатом этого процесса был «Упадок творчества». Так Николай Трубецкой назвал опубликованную в судьбоносном 1937 году статью. Хотя статья не содержит ни одного слова о терроре, она являет собой уничтожающую критику сталинизма. Согласно автору, репрессивная политика режима привела к параличу творчества в стране: «Люди, вынужденные долго молчать, в конце концов разучиваются говорить». В этой порожденной партией культурной стагнации Трубецкой видит причину неспособности сталинизма создать свой собственный культурный стиль. В Советском Союзе, пишет он, осуществляется всего лишь неуклюжее подражание полностью устаревшим культурным моделям, которые доминировали в дореволюционной России в 60—70-е годы XIX века. Анализируя русскую революцию, надо подчеркнуть, что она не ограничивалась, как известно, спонтанным протестом масс против творения Петра I. Парадоксальным образом это народное восстание соединилось с движением, стремящимся продолжить петровский замысел. Ведь большевики ставили своей целью превратить отсталую, «полуазиатскую» Россию в передовое, промышленное, европейское государство. Евразийцы мечтали о том, чтобы прийти на место истощившей себя коммунистической партии. В вышеназванной статье Трубецкой писал, что положение в СССР хотя и вызывает озабоченность, но не является безнадежным: «Исход состоит в замене марксизма другой идеей-правительницей». И для Трубецкого не было никакого сомнения в том, что эта другая идея может быть только евразийской. Еще в середине 20-х годов евразийцы характеризовали советскую политику как политику большого стиля. Все, что противостояло большевикам в России, было, по их мнению, провинциальным и малозначительным. Тот факт, что Трубецкой десятью годами позже упрекает сталинизм в полном отсутствии стиля, показывает, насколько низко упал большевизм за это время в глазах основателей движения. Трубецкой утверждал, что коммунизм осужден на угасание, поскольку он полностью истощил свой творческий потенциал. Но в действительности этой системе (скорый развал которой он предсказывал) предстояло еще полстолетия решающим образом определять ход мировых событий. Таким образом, Трубецкой недооценил политическую — но не культурную — витальность коммунизма. С необыкновенной проницательностью он увидел, что идеология, которая более не в состоянии вдохновлять культурную элиту, которая терпит лишь официозный художественный канон и драконовски карает всякое уклонение от него, в конечном итоге не имеет шансов на выживание. Основоположники евразийского движения рано распознали эпигонское и обывательское бесплодие сталинистского понимания культуры. Когда занимаются поисками причин развала советского режима, то ни в коем случае не следует забывать диагноз Трубецкого. Не только хозяйственная неэффективность, не только технологическая отсталость, но также и «упадок творчества», который наблюдался в России как следствие сталинской унификации, обусловили в конечном итоге закат советской империи. Кажется, что идеологическое кредо Дугина и его сторонников полностью соответствует программе «классических» евразийцев. Обе группировки являются страстными защитниками культурного партикуляризма и радикальными противниками универсальных идей. Евразийцы считали универсализм открытием западноевропейцев («романо-германских» народов), которые навязывают всем народам мира собственные представления о ценностях. Если европейцы говорят о человечестве, они понимают под этим только западноевропейскую цивилизацию, писал в 1920 году Трубецкой. Когда годом позже Трубецкой умер, его смерть символизировала конец классического евразийства. Как в то время предполагалось, оно окончательно покинуло политическую сцену. Несмотря на свое безграничное честолюбие, евразийцы так и не смогли создать действенную альтернативу коммунистической идеологии. Учение их казалось странной и окончательно закрытой главой в истории идей российской эмиграции. Однако в мире идей царят законы, которые всегда готовы преподнести сюрприз. Евразийским идеям, вроде бы канувшим в Лету в конце 30-х годов, суждено было через 50 лет пережить совершенно неожиданный ренессанс. Уже в конце горбачевской перестройки, когда эрозия коммунистической идеологии становилась все более очевидной, многие защитники имперской идеи пустились на поиски новых объединяющих начал для всех народов и религиозных сообществ советского государства и открыли при этом евразийские идеи. С особой настойчивостью распространяет их Александр Дугин в своих изданиях. В то время как евразийцы рассматривали весь Запад, точнее говоря, «романо-германские» народы, как врагов незападноевропейского мира, образ врага Дугина и его единомышленников редуцируется до англосаксонских морских держав, интересы которых якобы диаметрально противоречат интересам держав континентальных. Морские державы выступают за упразднение границ, за унификацию культур. Все это выдается западными или «атлантическими» последователями «мондиализма» за прогресс. Континентальные же державы, напротив, опираются на традицию, имеют глубокие корни. Культурные особенности отдельных народов считаются здесь ценным достоянием и ни в коем случае не рассматриваются как отвлекающий фактор, который стоит на пути т.н. прогресса. Это противоречие является для Дугина и его сторонников непреодолимым. Для осуществления «мондиалистского» плана морские державы должны стремиться к тому, чтобы лишить все культуры мира их особенностей, смешать их воедино в т.н. мировую культуру. Континентальные державы со своей стороны должны пытаться, если они хотят выжить, сдержать такое наступление всеми возможными способами, даже с помощью военной силы. Речь идет о жизни и смерти! Не иначе оценивает Дугин сегодняшние теории глобализации, или же идеи «нового мирового порядка». Все эти «мондиалистские» концепции инспирируются якобы правящими кругами Запада, цель которых — достижение мирового господства. Слабостью евразийской идеи — и в прошлом, и в настоящем — является, однако, то, что она так и не смогла добиться широкого признания, «овладеть массами». Несмотря на то что и евразийцы 20—30-х гг., и неоевразийцы пытались и пытаются распространять свою программу в бесчисленном количестве изданий, их идеи все еще остаются достоянием отдельных элитарных кружков. Для русских националистов евразийская идея чересчур абстрактна, то же можно сказать и о большинстве интеллигентов в исламских республиках бывшего СССР. При всей своей амбициозности программа евразийства, судя по всему, вновь обречена на провал. Конспиративный образ мира, прославление войны, стремление к тотальной победе над Западом — все это коренным образом отличает мировоззрение Дугина и его сторонников от взглядов классических евразийцев. Целью последних было не разрушение Запада, но ограждение России и всего евразийского субконтинента от культурного воздействия Запада. Их программа была не экспансионистской, а изоляционистской. Их интересовала не власть над миром, а поиски элемента, способного скрепить многонациональное государство. Они сознавали, что пролетарский интернационализм, с помощью которого большевики объединили развалившуюся в 1917 г. империю, не сможет сцементировать Россию на продолжительное время. Национальные эмоции рабочих, как правило, сильнее, чем классовая солидарность, говорил в 1927 году Трубецкой. Россия, если она хочет оставаться единым государством, именно потому должна искать нового носителя единства. Таким носителем может стать лишь евразийская идея, продолжал Трубецкой, потому что она подчеркивает общность между всеми народами России. Когда рухнула Берлинская стена, и противостояние западного и восточного блока завершилось, у Европы вновь появился шанс обрести единство, как и в петербургские времена. Но единства пока не получилось, так как по обеим сторонам уже не существующего железного занавеса изоляционисты всех мастей пытаются доказать, что пути Запада и России несовместимы. Но не иначе ведь обстояли дела и в петербургский период. Путешествуя по николаевской империи через 14 лет после восстания декабристов и через два года после смерти Пушкина, маркиз Астольф де Кюстин назвал Россию страной рабов, а Пушкина (всего навсего!) ловким подражателем западных образцов без самостоятельного творческого таланта. В России националистически настроенные круги в свою очередь постоянно хоронили «гнилой Запад». Однако ни российские, ни западные изоляционисты не смогли помешать все более и более интенсивному взаимодействию обеих культур. Это тогда Хомяков и Достоевский говорили о «священных камнях» Запада, а Томас Манн — о «священной» русской литературе. Апогеем этого взаимопроникновения был Серебряный век, эпоха религиозно-философского ренессанса в России, который опирался и на западный рационализм, и на православную духовность. Культура Серебряного века показывает, что Запад и Восток не обречены на вечное противоборство, и синтез между ними возможен. То, что не евразийская, а национальная идея является той основой, на которой базируется современная российская государственность, кажется чем-то естественным. Ведь Россия после развала СССР, в сущности, впервые образовалась как национальное государство. Таковым она не была ни в московский период, который вдохновлялся сверхнациональными, религиозными идеями, ни в эпоху петровского европеизированного самодержавия, ни тем более в большевистские времена, когда страна превратилась всего лишь в один из участков фронта мировой революции. Так что в России — в традиционной великой державе — происходит сегодня, как это ни парадоксально звучит, процесс nation building, как и во многих бывших республиках Советского Союза, которые в 1991 году впервые обрели государственную независимость. А такого рода процессы, как правило, связаны с поиском идентичности и с всплеском националистических эмоций. Такого рода явления наблюдались и наблюдаются во многих странах мира. Значит ли это, что Россия превращается в «нормальное» национальное государство с партикулярными целями и отказывается от универсальных идей, которым она служила в течение последнего тысячелетия? Могут ли идейные установки, столетиями определявшие сознание нации, бесследно исчезнуть? Вряд ли. Кроме того, националистическая идеология, несмотря на ее широкое распространение, — это не «последнее слово» исторического развития. Еще в начале ХХ века национальное государство рассматривалось на Западе как венец творения, вершина развития человечества. Однако трагический опыт мировых войн наглядно показал, к каким ужасающим последствиям приводит обожествление национальных интересов отдельных государств. Без этого опыта интеграционные процессы, начавшиеся в Европе во второй половине XX века, были бы немыслимы. Эти процессы не могли не коснуться и России. Мечта о преодолении раскола между Западом и Востоком, о «возвращении в Европу» была мотором горбачевской перестройки. С особым рвением представители радикального крыла реформаторского лагеря стремились, как в свое время и радикальные западники петербургского периода, к тому, чтобы превратить Россию в «нормальную» европейскую страну. Но, как и их предшественники, они недооценили своеобразие России. Каждая попытка перенести на российскую почву западные институты и модели без учета этого своеобразия обречена на неудачу. Россия — «есть европейская держава» (Екатерина II). Однако надо добавить, что ее европеизм отличается от западного. Когда на Западе, да и на Востоке, утверждают, что Россия лишь в географическом, но не в культурном смысле является частью Европы, забывают, что Европа — двуликий Янус, у которого есть и свой Запад, и свой Восток. И они, в сущности, не могут существовать друг без друга. Ведь нельзя же себе представить западную культуру без Достоевского, Толстого, Чехова или Кандинского, а русскую без Шекспира, Сервантеса, Гете и Гегеля. Попытки изолировать эти взаимопроникающие сосуды друг от друга приводят к увяданию обеих культур. В связи с последними событиями на Кавказе кажется, что национально настроенные сторонники особого пути России, радикально отвергающие западные модели развития, одержали окончательную победу в стране. Однако в истории, как правило, не бывает ничего окончательного. Отнюдь не исключено, что приверженцы русского европеизма, несмотря на ту маргинальную роль, которую они играют в сегодняшней России, при более благоприятных для них обстоятельствах смогут вновь вернуться на политическую сцену, как это уже не раз бывало в истории страны. Значит ли это, что российский маятник качнется тогда полностью в другую сторону? Но, может быть, прошли те времена, когда Россия подчинялась единой «идее-правительнице», и все вышеназванные течения будут сосуществовать друг с другом? Входит ли страна постепенно в постидеократическую фазу своего развития? Хотя большевистская революция насильственно прервала дальнейшее углубление этого синтеза, идеи религиозно-философского ренессанса продолжали развиваться в эмиграции, и после падения железного занавеса начали постепенно возвращаться на родину — так же, как и евразийские идеи и идеи националистически настроенных эмигрантских кругов. Все они вливаются в основные идейные потоки сегодняшней России. Заглавная страница / Социология |